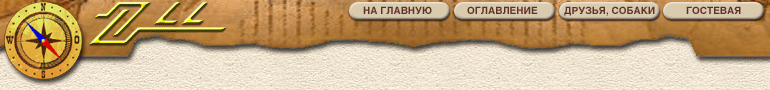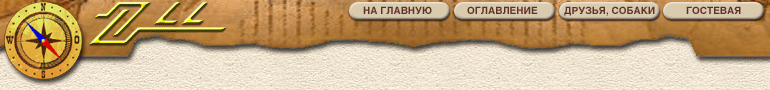Крольский перевал
- О-о-о-й, голова-а боли-и-ить!
Сон потихоньку отлетает. Перед глазами край стола, покрытого клеёнкой. На столе - керосиновая лампа. От неё на белёном потолке мечется лохматая тень с воздетыми руками. В области зрения появляется громадная фигура в исподнем. По чисто выскобленному полу шлёпают гигантские раздавленные фиолетовые ступни, наступающие на собственные тесёмки от кальсон. Это мой хозяин, дед Кирсан, мечется в утреннем похмелье по горнице, хватается руками за лохматую седую голову и ревёт быком:
- О-о-о-й, голова-а боли-и-ить!
И так каждое утро.
С темнотой мы кончаем работы на Крольском перевале, где изучаем трещиноватость горных пород для строительства железнодорожного тоннеля, и возвращаемся в близлежащую деревеньку, где организовали свою базу. До десяти-одиннадцати вечера я обрабатываю материалы в камералке и потом отправляюсь домой, к пасечнику деду Кирсану, где мы ужинаем и надираемся медовухой. Утром Кирсан всегда встаёт первым, и начинается рык:
- О-о-о-й, голова-а боли-и-ить!
А из сеней уже доносится звяканье самовара.
Эта побудка происходит каждое утро. Сейчас хозяйка, баба Кланя, внесёт самовар, нальёт в чашку чая, затем, принесёт туесок с мёдом и деревянную лохань, полную свежих оладушек. Дед Кирсан садится за стол, наливает в блюдце чаю, громко втягивает первый глоток и рычит уже на октаву тише:
- О-о-о-о, хорошо-о-а-а!
Ещё глоток:
- О-о-о-о, хорошо-о-а-а!
Потом:
- Ляксей! Ляксей! Встань, однако, чайкю пошвыркай, шанежек пожуй, да опять лягешь. О-о-о-о, хорошо-о-а-а!
Я понимаю, что больше поспать не удастся.
Дед Кирсан никогда не опохмелялся, "штоб похмельем утром не маяться", хотя неизменно им страдает. Он слыл большим мастером гнать медовуху - самогон из медовой браги. Рецепт её был прост. В чан с кипятком опускались соты после веянья мёда. Воск таял, всплывал и удалялся специальной ложкой, а остатки мёда растворялись, и на этом растворе ставилась брага. Когда она достигала зрелости, из неё гнался самогон. В силу первозданной чистоты первичного продукта - мёд, колодезьная вода - самогон получался исключительно благородным, без примеси сивушных масел, и голова моя после этих попоек никогда не болела. Причём, эта резистентность оказалась настолько устойчивой, что действовала и в дальнейшем по возвращении в город, когда приходилось пить всякую дрянь - коньяк, водку, спирт, ром, джин, виски, ракию, сливовицу, чачу и кальвадос.
Весна в этом году случилась с заморозками. Поэтому завязь погибла и не было ни шишек, ни ягод. Медведи не нагуляли жиру и не легли на зимнюю спячку. Шатуны, случалось, нападали на людей. В соседней деревушке загрызли женщину, поутру дергавшую сено для коровы из копны на околице. Командир автороты, возвращаясь в казарму на газике, увидел одного на дороге и захотел подстрелить из макарова. Раненый медведь сильно поломал начальника. Немедленно, местные охотники, организовавшись, застрелили этих медведей. Но люди перестали по одиночке ходить из села в село, на подлёдный лов, на охоту.
Однажды утречком, когда мы по обыкновению "швыркали чаёк", вбежали бабы:
- Кирсан, в лесу три медведя! Мы шишки собирали, они прям на нас вышли!
Мы сунули ноги в пимы, накинули полушубки прямо на исподнее, похватали ружья, патроны, лыжи и бросились по следам в лес. За нами, конечно, увязались собаки - моя фоксишка Ветка и дедов Учуй ("Медвежатник, лучший в Сибири," - так по пьяне нахваливал его Кирсан). К тому времени, как я увидал медведей, Кирсан отстал от меня метров на двести. Ветки тоже не видно было - маленькая собачонка буровила, практически, под снегом. Только рыжий Учуй сопел сзади меня, наступая на лыжи и мешая мне бежать.
- Р-р-рх! -что-то прожужжало над ухом, и только потом донёсся грохот выстрела, - р-р-рх! Я оглянулся и погрозил деду кулаком - он на ходу перезаряжал ружьё. Но Учуй, подогретый выстрелами, рванул вперёд, и бежать стало легче. Мишки, один крупный и два поменьше, метрах в пятидесяти впереди оставили после себя глубокие траншеи, тоже проваливаясь по шею в глубоком безнастовом лесном снегу. Я остановился и навскидку выстрелил в крупного медведя. Тот рявкнул, лапами отбросил по сторонам мелких и повернул ко мне. Учуй, этот "лучший в Сибири" выскочивший к мишке почти носом к носу, взвыл от ужаса, развернулся, и поджав хвост к брюху, бросился наутёк, едва не сбив меня с ног.
Пока я устанавливал равновесие после храброго Учуя, медведь, как-то неожиданно, оказался метрах в десяти. Из пасти капала розовая пена - моя пуля, как потом выяснилось, перебила ребро, прошла через лёгкие и застряла в лопатке. В верхнем стволе моей "Белки" (бокфлинт, нижний - 28-й калибр, верхний - малокалиберный, 70 см) осталась "двойная мелкашка" - порох из двух мелкокалиберных патронов был ссыпан в один, так что надо было стрелять наверняка.
У меня одно лето был в проводниках известный кемеровский охотник Богер. На его счету было более 40-ка медведей и золотая медаль ВДНХ за самый крупный медвежий трофей, так он говорил, что стрелять медведя дальше 20-ти метров, это надо быть отчаянным храбрецом. Надо стрелять не далее десяти. Наверняка, чтобы. У меня так и получилось - восемь шагов и пуля вошла над левым глазом и на его затылке была сплошная каша. Это была довольно крупная тощая медведица.
Изредка взлаивая, показалась моя Ветка. Она почти с головой проваливалась в пухлый снег, и продвигалась вперёд движениями пловца баттерфляем - со скоростью пешехода. Остановилась у туши, обнюхала, поняла, что здесь уже не нужна и уплыла вперёд, взлаивая. Я присел на тушу передохнуть, как показался Кирсан.
- Так… Готов?! Хорош зверюга! Ну, я за теми двумя…
Минут через пять услышал яростный лай Ветки. Встал с туши, перезарядил ружьё и двинулся на звук.
Ветка лаяла на верхушку густой пихты, к которой была в снегу проторена медведем траншея. Снегу на пихте не было - значит, мишка здесь. Стал обходить дерево, постреливая в самую тёмную и густую часть кроны. Наконец, раздался сдавленный рявк. Выпустил туда же два последних патрона. Крона чуть качнулись, и оттуда, как бы нехотя, вывалилась бурая туша. Немного подёргавшись на снегу, она затихла. Затихла и Ветка, сразу вцепившаяся мишке за ухом - взяла "по месту", как положено фокстерьеру брать лису.
Донеслись выстрелы и кирсанова дробовика. Пока я курил трубку, которая всегда находилась в кармане полушубка - в избе я не курил - появились из деревни ещё охотники. Кто-то отправился за лошадьми, остальные сели обговорить случившееся.
Это была большая редкость - медведица с двумя пестунами-двухлетками. Видимо голод не дал распасться семье, и мишки до последнего часа держались матери.
Местные подивились вязкости Ветки, так и продолжавшей держать медведя за ухом, несмотря на уговоры. Она показывала хвостиком, что отлично нас слышит, но, вот, отпускать никак нельзя - больно крупная зверюга. Дедов Учуй не показывался - спрятался где-то на селе. Я переделал его кличку, и с тех пор этот "медвежатник" стал всеми зваться Удуй.
Появились лошади, мужики соорудили три волокуши, и мы повезли добычу в село.
Там мы сняли шкуры, и я впервые увидел ободранную медведицу. Передо мной на снегу лежала женщина. В позе зачатия. Соски размещалась там, где положено у женщины, а не на животе, как у других животных. И выглядела довольно схоже.
Как показали весенние наблюдения на Алтае, и зачатие у медведей происходит тоже вполне по-человечески - он сверху, она на спине снизу. Причём, вначале, в точности, как у людей, она его не подпускала, отвешивая иногда существенные оплеухи. Тогда он удалился в чащу и вернулся через пол часа на трёх лапах, левой передней прижав к груди "букет" - какой-то пучок травы. Медведица почуяла его приближение издалека - повернулась в ту сторону, потом пошла навстречу. Он выронил перед ней этот пучок, и медведица его жадно съела.
По-видимому, это был какой-то стимулятор - уже через минуту они занялись любовью.
А та крольская охота на медведя была у меня последней - больше охотиться на медведей я не стал.
|